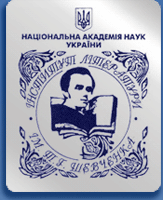Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европы 
является узким и сомнительным, ибо во всем этом стремились найти р е ш е н
и е в о п р о с а в о о б щ е, вместо того, чтобы понять, что существует
множество ответов для множества вопрошающих; что философский вопрос
представляет собою только скрытое желание получить определенный, уже в
самом вопросе содержащийся, ответ; что к великим вопросам данной эпохи надо
относиться как к чему-то призрачному и что, следовательно, необходимо
допустить существование г р у п п ы и с т о р и ч е с к и - о б у с л о в л
е н н ы х р е ш е н и й, и только о б з о р их – при полном устранении
личных убеждений может раскрыть последние тайны.
Для истинного мыслителя не существует абсолютно правильных или абсолютно
неправильных точек зрения. Перед лицом таких трудных проблем, как проблема
времени или брака, недостаточно обращаться к личному опыту, внутреннему
голосу, разуму, мнению предшественников, или современников. Таким способом
можно узнать только, что является истинным для самого себя, для своего
времени; но это далеко не все.
Иные культуры – иное выражение, иные люди – иные истины. Для мыслителя эти
истины либо все действительны, либо ни одна из них недействительна”.
Таков пафос исторического релятивизма Шпенглера; релятивизм исторический
превращается в философский, как это мы знаем в древности у софистов,
скептиков, а в новое время – у вульгарных релятивистов вроде Спенсера,
утверждавшего, что все наше познание относительно. У таких релятивистов
самое отрицание абсолютного возводится в абсолют, как у Л. Штейна,
утверждавшего, что “относительное есть единственный абсолют, нам
известный”.
Отвергая современную философию, как нечто психологически чуждое Шпенглеру,
с его методом художественного проникновения, и забронировав себя тем самым
от обычных приемов логической критики, он в то же время удивительно
обнажает для самых легких нападок существенные места своего организма
образов и слов. Поскольку его релятивизм становится типом известного нам
философского релятивизма, он не защищен от самой банальной недоуменной
критики, не менее убедительной, чем его яркие критические вопрошания.
Но Шпенглер не только р е л я т и в и с т. Он ощущает себя до конца как с к
е п т и к. Он прямо так и говорит о себе.
После перечисления настоящий, действительных, по его мнению, философов ХIХ
века с волей к власти, к жизни, с тягой к практико-динамическим началам
жизни, – философов, раскрывших, по его мнению, драматические образы
действительности (Шопенгауэр, Прудон, Геббель, Маркс, Вагнер, Дюринг,
Ибсен, Ницше, Стриндберг, Вейнингер, Бернард Шоу), он приходит к выводу о
возможной жизненности последнего акта европейской философии; он формулирует
его как и с т о р и к о - п с и х о л о г и ч е с к и й с к е п т и ц и з
м.
Тайна мира появляется постепенно, как проблема познания, оценки
(Wertproblem) и как проблема формы. Кант понимал этику, как предмет
познания; ХIХ-й век понимал ее, как предмет оценки. Скептик оба эти
понимания рассматривает, как исторические феномены.
Естественно, что систематическая философия бесконечно чужда Шпенглеру. Для
него не существует здесь проблемы противопоставления исторического, как
феноменального, какой-то действительности, как ноуменальной, сокровенной.
Рассматривая м и р, к а к и с т о р и ю, созерцая судьбу исторического и
как бы приобщая его к метафизическому миру, он в то же время далек от
признания того, что историческое ноуменально, онтологично, что человеческая
судьба есть какое-то откровение об этой действительности. Он не дает также
никаких оснований думать, что историческое бытие в своем метафизическом
начале предрасположено к реализации того, что д о л ж н о б ы т ь. Здесь
вступил бы уже акт веры, приобщения к Божеству, где необходимость перестает
быть неволей, а свобода перестает быть произволом. Но Шпенглер арелигиозен…
Он чистейший ф е н о м е н о л и с т. Оставляя позади “этически завершенную
философию”, он ставит новую возможность, соответствующую греческому
скептицизму, которую характеризует, как неизвестный до сих пор метод с р а
в н и т е л ь н о и с т о р и ч е с к о й м о р ф о л о г и и.
Но морфология Шпенглера не похожа на то, что мы понимаем под этим, хотя бы
в ботанике со времен Шлейдена. Замечательно то, что морфология здесь дается
б е з с и с т е м а т и к и, оставляя какую-то методологическую
неудовлетворенность всей архитектоникой Шпенглеровской мировой истории.
Если можно говорить о системе у Шпенглера, то, конечно, не о системе
понятий; было бы неверно сказать также – слов. Мы входим с ним в систему
символов, образов, и в этом смысле релятивиста и скептика Шпенглера можно
назвать великим с и м в о л и с т о м… М о р ф о л о г и я м и р о в о й и
с т о р и и н е о б х о д и м ы м о б р а з о м с т а н о в и т с я у н е г
о у н и в е р с а л ь н о й с и м в о л и к о й.
Основной рычаг постижения всей мировой истории составляют именно его
симметричные ряды, стройные шеренги символов. Иногда это напоминает
симметричность и педантичность Данте. Как будто та же таинственная
символика. Трехстрочная строфа. Три кантики “Комедии”. По 34 песни на “Ад”,
“Чистилище”, “Рай”. Три символических жены. Три цвета, в которые облечена
Беатриче. Три символических зверя. Три пасти Люцифера. Тройственное
распределение ада с девятью кругами. Девять уступов чистилища и девять
небесных сфер…
Но может ли сравниться вращающаяся сцена мировой истории, представленная
Шпенглером, его пышная многогранность, культурная мозаика, историческая
кусочность с цельным, счастливо органическим, утверждающим себя в гармонии
и полноте миросозерцанием великого флорентийца?
Систему Шпенглеровских двухрядных образов можно сравнить с Ницше, которого
он так критикует и которым он так напитался.
Аполлон – Дионис.
Стоики – Эпикурейцы.
Спарта – Афины.
Сенат – Плебс.
Трибунат – Патрициат.
Для Ницше это были страстные образы, полные значительности и трагичности.
Не методом служили они ему, не аппаратом познания, а подлинными философско-
поэтическими, близкими сердцу знаками о мире, о жизни, о борьбе, о судьбе
человека.
Совсем не то у Шпенглера.
Душа – Мир.
Возможность – Действительность.
Становление – Ставшее.
Устремленность – Протяженность.
Органическое – Механическое.
Судьба – Причинность.
Символ, образ – Число, понятие.
История – Природа.
Физиономика – Систематика.
Религия – Наука.
Искусство – Физика.
и т. д. Можно варьировать эту двойную механику образов, служащую Шпенглеру
аппаратом познания, ключом к тайнам мира.
Здесь нет ни тоски, ни борьбы, ни трагичности Ницше; наоборот, полное
успокоение, безразличие, деловая четкость в образах, глубина и мудрость д в
о й н о й б у х г а л т е р и и – этой неоцененной еще доныне символической
науки. Его образы могут выстраиваться в пропорциональные ряды, и проделав с
Шпенглером весь цикл путешествий по разным кругам культур, легко
комбинируешь эти пропорции.
Формы “становления”, “жизни”, например, так относятся к формам “ставшего”,
“познания”, как “органическое” относится к “механическому”, как
“физиономика” – к “систематике”, “судьба” – к “причинности”, “время” – к «
пространству» , как “этика” к “логике” и т. д. Вот этот ряд:
Этика = Органическое = Судьба = Физиономика,
Логика Механическое Причинность Систематика
Судьба = Время.
Причинность Пространство
Сжившийся с Шпенглером читатель черпает из этих формул некоторую силу для
своего воображения, но в этих образах нет никакой физической силы,
прочности. На них ничего не построишь. Они призрачны и бесплодны* . Не
разрешая проблемы времени и пространства при помощи символов судьбы и
причинности, вы ощущаете лишь дразнение разума и остаетесь разочарованным
холодностью и сухостью Шпенглеровского рассудка. Что остается у вас от
пышного цветения, глубочайшего созерцания и погружения во все эти культурно-
исторические “перводушевности”?
Художественная напряженность, полет исторической фантазии, возбужденный
позыв любомудрия – все это как-то рассеивается от прикосновения к
рационалистическому стержню Шпенглеровской философии. Художественный
алогизм оказывается разновидностью рационализма. Символика и романтика
оказываются цветистой игрой холодного разума – ни души, ни жизни, ни
истины.
У Шпенглера нет определенного волеустремления, хотя он все время говорит о
“воле к жизни”, нет ясной интенции его сильного разума, и если я сравнил
его “Закат Европы” с симфоническим произведением, если я ощутил его
контрапунктичность, то в результате усвоения его перемежающихся тем я не
нашел того, что бывает в обычном контрапункте, где идущие самостоятельно
голоса и темы объединяются в нашем понимании в их отношении к одному
созвуку, к основному голосу (cantus firmus).
В симфонии Шпенглера отсутствует cantus firmus.
Все это обесценивает жизненность его философии.
Между тем, требование ж и з н е н н о с т и есть основное требование,
предъявляемое им ко всякой философии.
Разоблачая “вечные истины”, Шпенглер видит суть дела не в различии между
бессмертными и преходящими учениями, а в том, что существует вообще только
либо такие учения, которые являются жизненными в течение известного периода
времени, либо такие, которые никогда не были жизненными. Научный костюм,
ученая маска философии ничего тут не решают.
“Нет ничего легче, – говорит сам Шпенглер, – как взамен отсутствующих
мыслей создать систему. Но даже верная мысль имеет мало цены, если она
высказана поверхностным умом. Значение какого-нибудь учения определяется
исключительно степенью его необходимости для жизни”.
Вот почему пробным камнем для испытания ценности мыслителя Шпенглер считает
обнаруживаемую им степень понимания великих фактов своего времени.
“Только тут выясняется, является ли кто-нибудь просто искусным
конструктором систем и принципов, с ловкостью и начитанностью разбирающимся
в разных дефинициях и анализах, или же устами его произведений и интуицией
говорит сама душа эпохи. Философ, который не охватывает действительности и
не господствует над ней, не будет крупным философом. Философы до-
Сократовского времени были политиками и купцами большого стиля. Платону
едва не стоило жизни то, что он хотел осуществить в Сиракузах свои
политические идеи. Он же открыл ряд геометрических теорем, благодаря
которым Евклид получил возможность построить систему античной математики.
Паскаль, которого Ницше знал только, как “надломленного христианина”,
Декарт, Лейбниц были первыми математиками своего времени» .
Всех их Шпенглер противопоставляет философам последнего времени.
Существенным недостатком последних было то, что они не занимали решающего
места в действительной жизни. Никто из новейших философов не оказал, хотя
бы одним делом, одной мощной мыслью решающего влияния на высшую политику,
на развитие современной техники, путей сообщения, народного хозяйства, на
какой-либо из видов богатой действительности.
Шпенглер перебирает старых философов: Аристотеля, который мог бы, по его
мнению, заведовать, подобно Софоклу, финансами в Афинах; Гете, который был
образцовым министром, но, к сожалению, в маленьком государстве; он высоко
ценит то, что Гете понимал в свое время коммерческое значение Суэцкого и
Панамского каналов (Гете предвидел время осуществления последнего); Гоббс –
участник образования английской колониальной империи; Лейбниц, положивший
основание дифференциальному исчислению, в то же время понимал значение
Египта для французской политики, роль Суэцкого перешейка и имел глубокие
политические и стратегические соображения…
Всем этим жизненным умам старых философов Шпенглер противопоставляет
будничность, узость практических горизонтов у современных мыслителей. Он с
презрением восклицает:
“Не возбуждает ли жалость одна мысль о том, чтобы кто-нибудь из них показал
свои таланты в качестве государственного деятеля, дипломата, крупного
организатора, руководителя какого-нибудь огромного, колониального
коммерческого или транспортного предприятия. Но это не свидетельствует о
внутреннем превосходстве, а скорее о легковесности. Тщетно озираюсь я и
ищу, кто из них создал себе имя, хотя бы одним глубоким и прозорливым
суждением в вопросе, имеющем решающее значение для современности. И я
наталкиваюсь только на провинциальные взгляды, на мнения, какие имеет
каждый обыватель. Когда я беру в руки книгу какого-нибудь современного
мыслителя, то задаюсь вопросом, какое он вообще имеет представление, –
кроме катедерской или пустой партийной болтовни, соответствующей уровню
среднего журналиста, которую можно встретить у Бергсона, Гюйо, Спенсера,
Дюринга, Эйкена – о фактической стороне мировой политики, о великих
проблемах мировых городов, капитализма, будущности государства, об
отношении техники к концу цивилизации, о русском вопросе, о вопросах науки
вообще”.
И Шпенглер с пафосом полного жизни практика бичует бесплодие современной
философии.
“Очевидно, – констатирует он, – утерян всякий смысл философской
деятельности. Смешивают ее с проповедью, агитацией, фельетоном, или научной
специальностью. От перспективы птичьего полета опустились до уровня
лягушечьей перспективы. Речь идет ни о чем ином, как о вопросе, возможна ли
вообще сегодня или завтра настоящая философия. В противном случае разумнее
стать плантатором или инженером, чем-нибудь истинным и реальным, нежели
пережевывать затасканные темы под предлогом “нового подъема философского
мышления”; и лучше сконструировать новый двигатель для летательного
аппарата, чем новую и столь же излишнюю теорию апперцепции… За поразительно
ясные, высоко интеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного
завода, прецизионной машины, за тонкость и изящество некоторых химических и
оптических процессов я готов отдать всю стильную дребедень современной
художественной промышленности, вместе с живописью и архитектурой”.
Откуда же у человека с фаустовской душой такой пафос цивилизации? Откуда
воля к практическому деланию?
К осушению болот Фауст приходит в результате успокоения. Это успокоение,
завершение, конец культуры; между тем, Шпенглеровский пафос устремлен в
некую перспективу творчества, подъема, расцвета, этого практического
делания. Как вяжется этот оптимизм в отношении цивилизации с пониманием ее
сущности? Ведь цивилизация есть “смерть культуры”, ее “склероз”,
“окостенение”.
Эти недоумения возникают под впечатлением его художественного анализа и
противопоставления культуры и цивилизации, может быть, наиболее ценного во
всей книге. Здесь действует тот же аппарат постижения, система двойных
символов.
Культура – Цивилизация.
Становление – Ставшее.
Прочувствованная история – Познанная природа.
Организм – Механизм.
Душа – Мозг.
Этическое – Логическое.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|