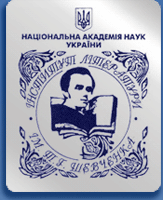Творчество художника П.П. Кончаловского 
самостоятельное и современное произведение, в котором вечная тема ликующего
семейного счастья приобрела оригинальное, неведомое дотоле решение. Портрет
сделан так, что самая схожесть, призванная сказать зрителю о духовном и
творческом созвучии советского живописца Рембрандту, одновременно
подчеркивает, оттеняет и существенные различия, отчего более решительно
выступает новизна картины Кончаловского. Впрочем, второе обнаруживает себя
не сразу. Первоначальный взгляд на портрет целиком воскрешает Рембрандта.
Рембрандтовская замкнутая композиция — художник с женой на коленях, бокалы
вина в руках, большая согнутая в локте рука на переднем плане.
Рембрандтовский фон с тяжелой драпировкой в правом верхнем углу.
Рембрандтовская светотень, золотистость колорита.
Однако чем больше мы всматриваемся в этот рембрандтовский образ, тем
больше обнаруживаем в нем нечто совершенно нерембрандтовское.
Мы помним, что в основе композиции “Автопортрета с Саскией” —
выдвинутая вперед большая фигура Рембрандта. Жена — заметно меньше и на
втором плане. У Кончаловского все иначе. Весь первый план он отдал жене.
Сам же скромно разместился на втором. Фигуры равновелики. И, думается, дело
здесь не только в том, что жена Кончаловского была крупной, полной,
сколько в том, что живописец воспользовался этим для выявления идеи
равнозначности образов, идеи, лежащей в основе творческого замысла портрета
и отразившей суть взаимоотношений портретируемых. Жена Кончаловского,
Ольга Васильевна, дочь В. И. Сурикова, обладавшая незаурядным умом и
сильным самостоятельным характером, разбиравшаяся в делах творческих так же
хорошо, как и в делах житейских, была равноправной с мужем хозяйкой семьи и
верной подругой художника. И вполне естественно, что, задумав парный
портрет, Кончаловский решил изобразить ее именно так.
Равнозначность фигур поддержана равнозначностью сближенных голов
портретируемых (у Рембрандта они разобщены), общностью выражения их лиц.
Открытое доброе лицо Кончаловского озарено светлой радостной улыбкой,
гораздо более сдержанной, чем у Рембрандта. Несравненно сдержаннее и жест
руки с бокалом, твердо лежащей на столе. В совершенно ином плане, чем у
Рембрандта, представлена и жена художника. Улыбка, осветившая ее лицо,
проще, демократичнее, чем у Саскин. Соответственно проще и костюмы. В них
нет ни парадного блеска, ни драгоценных украшений (как в картине
Рембрандта). Они скромны, хотя по-своему праздничны и красивы. Композиция
Кончаловского относительно сдержанна и устойчива. В ней ясно обозначен
геометрический центр (бокалом жены), но она не статична. Внутренней
приподнятости образов вторит, в частности, движение ритмически
согласованных рук, как бы опоясывающих группу. Ритмическое нарастание
действия идет и по диагонали — от нижнего правого угла, через руки с
бокалами к повернутому в профиль лицу О. В. Кончаловской.
Исходя из внутренней концепции образа (она сложилась в воображении
мастера еще до того, как он начал писать портрет). Кончаловский решал и
цветовой строй произведения. Ему хотелось, чтобы в портрете не было никакой
яркости красок, чтобы весь он был насыщен тоном, светотенью. Он стремился
уже не “делать” предмет, не передавать признаки его вещности, как это часто
бывало раньше, а “писать”, вводить портретируемых в окружающую их среду. И
тут Рембрандт, конечно, сыграл решающую роль. Глубокий золотисто-черный
бархатный колорит, нежесткая, но энергичная фактура, созданная пастозной
цветовой кладкой, очень живая светотеневая игра — все это необычайно
повышает эмоциональную звучность портрета. И все это, бесспорно, от
Рембрандта. Однако и здесь Кончаловский, в конечном счете, оставался самим
собой. При внимательном рассмотрении живописной ткани его картины мы
убеждаемся, что и в ней много нового, совсем не рембрандтовского. В особой
устойчивости, материальной весомости основных цветовых форм, их
относительно четкой разграниченности, обозначении рубиново-красным пятном
бокала — геометрического центра картины, в подчеркнутой объемности фигур,
четко отделенных от фона, по-прежнему угадывается Сезанн. Однако и Сезанн н
Рембрандт забываются, когда мы всматриваемся в лица портретируемых,
вылепленные специфически неповторимой кладкой коротких энергичных мазков
белой, желтой, красной, коричневой красок, когда мы прощупываем взглядом
свежо и оригинально переданную ткань одежды, писанную “многосоставно”,
большим количеством сходных по тональному звучанию цветов. Так, дивный
бронзовый отлив бархатного платья Ольги Васильевны (специально сшитого для
этого портрета) был достигнут очень сложным и смелым сплавом коричневых,
охристых и желтых (вплоть до индийской желтой) топов.
Словом, при своей видимой близости известному классическому образцу
“Автопортрет с женой”, в сущности, — совершенно самостоятельное
произведение, знаменующее очень серьезный сдвиг в творчестве мастера. И
совершенно понятно, почему Кончаловский, как он впоследствии вспоминал,
мучительно вынашивал и необычно трудно писал это произведение: долго
“устраивал” композицию, бесконечно переделывал отдельные куски, не раз
бросал и заново начинал работу, волновался за будущее — “вплоть до сомнений
в своих силах, в уменьи осилить задачу”.
Задача была осилена. Тем не менее, художник на протяжении нескольких
ближайших лет все еще “штудирует” Рембрандта. Рембрандтом веет от
великолепного портрета О. В. Кончаловской 1925 года и особенно — от
“Автопортрета” (с больным ухом), написанного в 1926 году. В последнем
отчасти чувствуется и Ван Рог. Кажется, будто художник вспомнил некогда
сказанные Ван Гогом слова: “Косвенным образом вернуться к Рембрандту — вот,
быть может, самый прямой путь”, — и решил воскресить в своем автопортрете
широко известные автопортреты этих двух великих мастеров. При взгляде на
выступающее из густого мрака болезненно одутловатое лицо пожилого мужчины,
обвязанное шарфом, образующим на голове некое подобие чалмы, мы невольно
вспоминаем Рембрандта, каким он изображал себя в поздних автопортретах.
Близость эта усилена и рембрандтовской светотенью, и золотистым тоном
карнации, и “музейно”-желтоватым отливом белой сорочки, и плотной,
пастозной цветовой кладкой. С Ван Гогом роднит композиция, напоминающая
знаменитый “Автопортрет с перевязанным ухом”. От Ван Гога — и эмоционально
острый напряженный колорит красновато-оранжевого шарфа. Но перед нами и
здесь, прежде всего — сам Кончаловский. Его характерно русское лицо с
неповторимым внутренне выразительным прищуром. И, несмотря на кажущееся
абсолютное сходство живописной манеры с приемами великих мастеров, — его
специфический способ письма, обнаруживающий себя при более внимательном
знакомстве с холстом. Это произведение интересно как одна из первых попыток
мастера “позондировать” психологические пружины портрета, кои были столь
сильны у Рембрандта и Ван Гога.
Как и в “Автопортрете с женой”, Кончаловский не подражает классикам.
Он учится у них. И одновременно как бы спорить с ними, и небезуспешно.
Художник любил спорить. Он говорил, что ему доставляло особенное
удовольствие спорить с самой действительностью, с самой жизнью. Под таким
“спором” подразумевалось не модернистское противопоставление искусства
жизни, а стремление как можно полнее и оригинальнее отразить ее.
Одним из самых плодотворных результатов подобного “спора” явился
портрет дочери художника Н. П. Кончаловской (1925). Это едва ли не самое
светлое и жизнеутверждающее произведение мастера.
Наталье Кончаловской, ныне известной писательнице, было в ту нору
двадцать два года. “То было мое молодое, задорное время,— вспоминала Н. П.
Кончаловская. — Я тогда много работала дома по хозяйству, помогала отцу. Но
любила, и повеселиться, и потанцевать”. Жизнь била ключом в этой
черноглазой девушке, любимой внучке Сурикова, бойкой, энергичной,
подвижной. И при том красивой, крепкой, рослой.
Живописец, увлекавшийся в тот период Тицианом, вполне мог сварьировать
для такой натуры композицию какого-либо из портретов Лавинии. Это могло бы
выглядеть очень эффектно и украсило бы галерею своеобразных “парафраз”
Кончаловского еще одним шедевром. Но тут желание “поспорить с
действительностью” было настолько велико, что затмило все расчеты. Здесь,
быть может, впервые Кончаловский от начала и до конца говорил своим
собственным языком. Языком большого, зрелого мастера, уже освоившего опыт
мировой портретной классики.
Вопреки обыкновению, он не сочинял сюжета и не “устраивал” композиции.
Жизнь сама подсказала их своему “оппоненту”. “Как-то я собиралась на один
из танцевальных вечеров,— рассказывала Н. П. Кончаловская.— Одела розовое
шелковое платье и туфли с пряжками. Одна пряжка все время съезжала. Я
нагнулась ее поправить. Именно так и решил написать меня отец”.
Художник развернул фигуру портретируемой на большом, почти квадратном
холсте, взяв ее в динамичном и смелом ракурсе. Упругий изгиб полного, но
крепко сложенного, “легкого на подъем” молодого тела, плавное движение
сомкнутых полуобнаженных рук, энергичный поворот обращенной к зрителю
головы — уже это передает суть неповторимо яркой, жизнелюбивой натуры. И
как органично сливается с энергичной и непосредственной позой широкая
задорно-приветливая улыбка на крупном, по-русски красивом лице, строго
обрамленном темными, гладко причесанными волосами. Большие лучистые глаза
из-под ровных густых бровей, чуть вздернутый нос, цветущая свежесть
загорелых щек передают неповторимую, только ей, этой счастливой цветущей
девушке, свойственную полнокровность и живость.
Но едва ли не главную роль в мажорной, жизнеутверждающей
характеристике образа играет собственно живописное его решение. “Главное в
живописи — живопись”, — говорил Кончаловский, перефразируя известные слова
Пушкина о поэзии, и быть может, нигде так убедительно не продемонстрировал
это, как в рассматриваемом нами портрете.
Основу его цветового строя составляет огромное светлое пятно ярко-
розового платья. Как некогда ворона на снегу у Сурикова явилась живописным
ключом к “Боярыне Морозовой”, так и тут этот дивно светящийся, подвижной
блестящий розовый шелк был для Кончаловского тем решающим звеном,
ухватившись за которое он “вытаскивал” весь образ.
Написанное, казалось бы, единым духом полотно создавалось отнюдь не
быстро. Н. П. Кончаловская вспоминает, что было не менее двадцати сеансов.
Мы подчеркнули (да и сам художник об этом говорил) отсутствие какого-либо
заранее продуманного в работе над данным портретом расчета, столь
характерного для многих предшествовавших полотен мастера. Это не значит,
что тут вообще не было конструктивной логики. Напротив, она здесь
торжествует победу, ибо скрыта глубоко под спудом и не заявляет о себе
столь громогласно, как в ряде дореволюционных портретов Кончаловского или
даже в “Автопортрете с женой”.
При внимательном взгляде на портрет его естественно сложившаяся и с
виду очень свободная композиция обнаруживает большую внутреннюю стройность,
архитектоническую слаженность и гармоничность. Фигура портретируемой,
подобная крепко заведенной живой пружине, отлично вписывается в круг, а
точнее — в шар, который, в свою очередь, как бы вписан в кубическое
пространство интерьера. Этот геометрический лейтмотив портрета изумительно
выражен круглящимися очертаниями спины девушки, подола ее платья и особенно
— концентрическим ритмом широких шелковых складок.
Упругая центричность и математическая упорядоченность композиции
сообщают на вид случайной, мимолетной позе собранность и устойчивость,
повышают значительность образа, подчеркивают его компактность, весомость.
Этому же служит и колорит картины, тон которому задает крупный, широко
проработанный розовый массив фигуры, рельефно выделяющейся на серовато-
охристом фоне стены. Картина празднично декоративна. Яркий розовый шелк,
играющий в дневном свету красными, белыми, синими бликами, золотистая
карнация смуглого тела, изумрудно-зеленая обивка скамейки — все это, будучи
мастерски сгармонировано, раскрывает полнокровный, дышащий молодой силой,
свежестью и здоровьем образ, его радостную приподнятость.
Многие, знавшие в ту пору Наталью Кончаловскую, подтверждают
необычайное сходство портрета.
Но, пожалуй, самое замечательное состоит в том, что, создавая портрет
своей дочери, Кончаловский раскрыл в ней некие непреходящие типические
черты прекрасной русской женщины. Причем взял их в особой, сравнительно
редкой в нашем дореволюционном искусстве, радостно-светлой, ликующе-
праздничной трактовке. Луначарский увидел в портрете Наташи Кончаловской
нечто родственное с Наташей Ростовой. Но, пожалуй, более всего в ней от
богатырски крепких, сильных духом и телом полнокровных русских красавиц
Сурикова — из портретов и “Взятия снежного городка”. И общность тут не
только в типаже, но и в самой художественной концепции образа — мощной,
жизненно яркой, утверждающей; в самом живописном его строе — сочной,
темпераментной кладке насыщенных, переливающихся, как драгоценные
самоцветы, красок.
В 20-е годы, да и позднее, Кончаловскому нередко бросали упрек в
узости и неактуальности тематического репертуара. В самом деле, в пору,
когда художник писал портрет дочери в розовом платье, Малютин уже выступил
с портретом Фурманова, Чепцов — с групповым портретом сельских коммунистов.
Петров-Водкип задумал (а быть может, уже и написал) свою “Работницу”.
Кончаловский еще сравнительно долго оставался в кругу интимных, семейных
сюжетов и образов. Но означало ли это, что художник не шел навстречу новой
жизни, оставался в стороне от животрепещущих проблем советского искусства?
Отвечая многочисленным оппонентам Кончаловского, Луначарский писал:
“Нам нужна радость, нужны элементы ласки, ликования в нашей жизни и в
искусстве, нам нужны ощущения здоровых сил, — это необходимо для нас, и
даже, может быть, особенно необходимо именно потому, что мы находимся в
жестокой борьбе. Поэтому Кончаловский не может быть нам чуждым. Появление и
развитие такого художника среди нас — это для нас благо”.
Сегодня едва ли кто-нибудь станет оспаривать, что оптимистический,
крепко слаженный портрет П. П. Кончаловской, ярко утверждающий молодую
полнокровную радостную жизнь, как и лучшие интимные портреты 20-х годов
Сарьяна. Кузнецова и ряда других мастеров, являл новую оригинальную форму
реализма, отразившую свежее веяние советской эпохи.
Список литературы:
Ильина Т.В. Великая утопия. Русский советский авангард 1915-1932
М:, 1993 г.
История искусств. Отечественное искусство. Учебник М:, В.Ш.1994 г.
Страницы: 1, 2
|