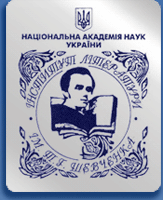Лермонтов в искусстве его времени 
значит - непосредственно и безобманно, тем самым прокладывая «дорожку» для
понимания его и всякому случайному зрителю. Исполняя автопортрет, художник
при всем желании не может «спрятать» себя от зрителя, да, собственно, и не
пытается это делать, ибо в задачу как раз и входит изображение самости
своей. Разумеется, все это относится к искренним и нелицеприятным
художникам, каковым, к примеру, был великий Рембрандт, оставивший после
себя множество, вовсе не лестных автопортретов, или Ван-Гог, так же
писавший себя не для украшения салонов. В большинстве же случаев автор
изображает себя таким, каким хотел бы себя видеть, или каким хотел чтоб его
видели другие, преследуя цель понравиться всем, и, не в последнюю очередь,
самому себе.
Представляется вероятным, что, оба художника, изображая Лермонтова,
были «далеки» от него. Потому мы и видим у Горбунова сильную личность -
воина, каковым Лермонтов, конечно же, и был, но был не только воином, иначе
не был бы великим поэтом. Глубокая и тонко чувствующая организация
Лермонтова истинно полна была вселенских противоречий. Очевидно поэтому
«огонь» черных глаз поэта не был в состоянии уловить никто из художников,
даже и где-то видевший его Брюллов. По этой причине, наверное, не стал
рисовать поэта и его друг - талантливый художник любитель князь Г. Гагарин.
Итак, ясно, что ни одно из «сторонних» изображений не отражает
внутренний мир поэта. Лермонтову, в отличии от Пушкина, фатально не везло
на истинных художников. Исключение, пожалуй, составляет профильный
набросок, сделанный усталой рукой барона Д. Палена. Но и оно не ставит под
сомнение наши рассуждения, ибо рисунок был сделан после долгого и
кровопролитного сражения при реке Валерик /в котором, Лермонтов, напомню,
проявил себя геройски/. Ясное дело, после окончания баталии было не до
«психологических защит». Да и от кого? - от тех ли, кто, часом раньше,
рискуя жизнью, не только выполнял боевую задачу, но и выручал, а то и
спасал от смерти друг друга?! Видимо, Лермонтов, изможденный после боя, а
потому «открытый» для понимания, и привлек этим внимание наблюдательного
товарища. Нам остается лишь быть признательными Палену «поймавшему»
Лермонтова, возможно, в те мгновения, когда в уме поэта рождались строки,
обращенные к «человеку»: «Я думал: Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо
ясно,/ Под небом места много всем, /Но беспрестанно и напрасно /Один
враждует он - зачем?».
Во всяком случае, глядя на этот профиль, веришь, что в тот момент
никаким другим, иначе как на этом рисунке, поэт быть не мог. Вот и мы, не
ударив лицом в грязь перед товарищем Лермонтова, попытаемся вникнуть,
только теперь уже в «душу» живописи великого поэта.
Лермонтовские искания, находясь в пределах русской изобразительной
культуры и опосредственно связанные с традициями европейского искусства,
чем-то сродни «федотовской» неприкаянности, и, отталкиваясь от
«брюлловского театра», - перекликаются с теплыми «венециановскими»
настроениями.
Дневники поэта /включая «дневник Печорина»/ ничего не говорят нам о
переживании им «культурного конфликта» России и Европы. Да это и не
особенно нужно. То, что нельзя прочесть, можно увидеть в его
колористических исканиях. Лермонтов понимал известную вторичность русской
живописи, давно уже мытарствующую «по Европам». А потому не могла она
удовлетворить как всегда значительные его личные требования. Идя своим
путем, поэт никогда не мог и не хотел быть «вторым». Хотя, здесь уместно
будет упомянуть о борющихся друг с другом честолюбии и скромности
Лермонтова - едва ли не накануне гибели говорившего своим друзьям, что
чувствует в себе настоящий талант поэта... Так же знаем мы, что, боготворя
Александра Пушкина, в юные годы он не осмеливался публиковать свои стихи,
не желая ни «спорить» со своим кумиром, ни находиться в тени его
вдохновенного творчества. Но знаем мы и то, как ошибался Лермонтов на свой
счет! Хотя, правильнее говорить здесь о величии, присущем высшей породе
человека, ибо не многие в нынешнем мире имеет к себе столь высокую
требовательность, блистательно отличавшую поэта.
Вернемся, однако, к живописи Лермонтова.
Изгнанный из «страны рабов, страны господ» в места, «где все
свободны, как орлы» - «осмеянный пророк», помимо поэтических, открывает в
поднебесье Кавказа несказанные формы. Воплощая их в живописи, находит свои
- чисто «лермонтовские» гармонии цвета, «опредмечивая» ими тот мир, в
котором тайно от всех и истинно жил. Только на этом фоне могут стать
различимыми все творческие искания поэта, в данном случае облеченные в
загадочные гармонии цвета. Понятно, что в этом же ключе следует
рассматривать иные «неясности» живописи Лермонтова, находящие свое
объяснение не только в недостаточном опыте работы «маслом». Помимо
колористического дара обращает на себя внимание светоносность письма,
пространственность и, как это ни покажется странным, - скульптурность
произведений Лермонтова. Именно так! Лермонтов обладал трехмерным видением
мира и естественной - в такой степени присущей только ему - тягой к
необъятному пространству. Как и в поэзии, любая изображаемая им форма дана
в нескольких измерениях. Потому в своих «подлунных» пейзажах Лермонтов
лепит ее, как часть невидимой, или, еще точнее - неизведанной еще формы.
Оттого, для ощущения всего спектра цвета, в который «одета» видимость,
художник порой «списывал» таинственные цвета из своего сокрытого от всех
мира...
Помимо колористического своеобразия Лермонтова-живописца изумляет
редкий композиционный дар и изящное чувство плана, выражающие себя в
расстановке на холсте масс. Вообще говоря: «композиционное чутье» художника
поясняется наличием идеи, которая самая себя «не видит», а потому и не
существует вне изобразительных форм ее разрешения. Иными словами -
композиция есть средство воплощения идеи изобразительными /«техническими»/
способами. Это лермонтовское «чутье» и объясняет то, что планы и ритмы, как
и «вертикали» масс, «горизонтали», и прочее - в его произведениях не
«сталкиваются» друг с другом, но образовывают некое пластическое единство.
И если немногие огрехи в его полотнах «тихо» говорят о недостаточной
специальной подготовке, то живописные достоинства громко заявляют о своей
уникальности. Несмотря на то, что в отрочестве Лермонтов брал уроки
рисования у достаточно опытных художников, особенности его композиций
говорят о наличии собственных «установок», объяснимых лишь ярким
своеобразием и образностью его мировосприятия. Композиционные «центры» в
полотнах, акварелях и рисунках Лермонтова свидетельствуют о необыкновенном
умении «завязать» композицию, не возможном вне понимания динамики
пластических масс, чему научить не просто.
Идя своим путем, лишь «прикрытым» романтическим антуражем его
времени, Лермонтов постоянно ставил в живописи сложнейшие колористические,
цветовые и световые задачи, которые не были для него самоцелью. Художнику
чужды были отвлеченные, интересные лишь сами по себе, поиски цвето-световых
«магических» эффектов /А. Куинджи/, как неприемлемы были «мистические»,
переходящие в учение, цветовые гаммы Н. Рериха. «Снимая виды» и тяготея в
этом к высотам Кавказа, Лермонтов как бы прикасался к небесам, пространство
которых чувствовал как никто другой. Все, что находилось на земле, он видел
как бы с «небес». Именно там - в голубых высях таился от людей внутренний
мир поэта, там же находили пристанище его мысли и вдохновение живописца.
Отсюда некоторая «отрешенность» колористических гамм и цветовых сочетаний
полотен Лермонтова, роднящая его палитру с лучезарной и золотоносной
«мифологией цвета» его старшего современника английского живописца Уильяма
Тернера /1775-1851/. С той лишь разницей, что «мифология» Лермонтова
обусловлена была ощущением «царства дивного». Его фантастически
золотоносная акварель «На горах Кавказа» задолго до поэтических исканий
/1825/ обозначила этот мир в живописи! Надо полагать, немного не хватило
Лермонтову, чтобы его, вслед за Тернером, называли живописцем «великолепных
и прекрасных, хоть и не существующих субстанций».
И в самом деле, в своих «потусторонних» живописных поисках храбрый
англичанин порой совмещал на одном полотне, в одном случае - солнце и луну,
а в другом - писал радугу, отраженную в тихой воде, чего быть не может,
поскольку она не занимает определенного места в пространстве. Впрочем, эти
невольные «чудачества» живописца явно уступали манере «знатоков» искусства
рассматривать холсты через золотистого цвета фильтр, в обиходе чопорных
англичан называющийся «стекло Клода Лоррена». Вставляя его в глаз вместо
монокля, просвещенные жители викторианской эпохи предпочитали видеть мир
искусства в желаемом для них цвете, - а это и были «благородные» золотисто-
коричневатые тона старины.
Впрочем, в отношении цветов природы Лермонтов был более реален,
нежели его английский коллега, опять совпадая с непризнанным при жизни
гением в трагичности мироощущения. Последнее во все времена как ничто ясно
определяло эпическое величие творцов, несших на себе особую печать -
каленое клеймо всей человеческой истории! И если Тернер для полного
ощущения катастрофы просил матросов привязывать себя во время бури к мачте,
то у Лермонтова в том не было необходимости. Лучше всех это сделал государь-
император, навечно «привязав» поэта - как Прометея - к скалам Кавказа...
Как бы то ни было - и русский художник, и его великий собрат полны
были ощущения прошлых катастроф, видения настоящих, и предчувствия грозящих
миру новых общественных столкновений и катаклизмов. Так, Тернер, живя в
Лондоне, наблюдал рождение и развитие монстра материалистического мира -
Лермонтов в российских столицах видел нечто другое... Лондон, бывши
деревней, когда в цирюльне Тернера-старшего раздался крик младенца,
оповестивший Англию о рождении гения, - на закате жизни художника стал
крупнейшим индустриальным центром Европы. Тогда как в социально и
политически застывших «центрах» России Лермонтов видел не усиление Отчизны,
а падение ее! Сначала внутренне, а потом и внешнее, до которого поэт не
дожил, как не дожил и сам Тернер до позорного участия в этом «деле» горячо
любимой им Англии... И никакого значения не имеет то, что произведений
Тернера Лермонтов может и не знал, как не видел и работ его идейного
противника - сына деревенского мельника Д. Констебля. Не зная обоих,
Лермонтов «перемолол» в своей палитре мистическую фантастику духовного
аристократа Тернера с суровым демократизмом плебея Констебля.
Но с Тернером, слава Богу, историки искусства давно разобрались,
найдя ему достойное место в мировой живописи. Что знаем мы о несостоявшемся
чародее русской живописи? Где зрела таинственно мерцающая палитра и как
рождались цветовые гармонии Лермонтова?
О внутреннем действе мы можем только догадываться, а о «внешнем» их
проявлении нам в восторженном заблуждении сообщает сослуживец и поклонник
таланта Лермонтова Ю. Арнольди: «Он писал картины гораздо быстрее, чем
стихи, нередко он брался за палитру, сам еще не зная, что явится на
полотне, и потом, пустив густой клуб табачного дыма, принимался за кисть».
Надо полагать, Арнольди несколько погорячился, приписав Лермонтову
«скоростное» письмо. Интересно другое. Наблюдательный товарищ поэта верно
подметил некую «запредельность» дум поэта. И в самом деле, Лермонтов не
только достоверно «снимал виды» окрестностей, но активно и художественно
убедительно участвовал в «сотворении» их. Сознание поэта было многомерно, а
потому красочные и весьма разнообразные виды Кавказа служили ему поводом,
неким трамплином, с помощью которого воображение Лермонтова взмывало в
места нездешние... Потому многие пейзажи художника, хоть и привязанные к
конкретной местности /вплоть до узнаваемости их и сейчас/, в буквальном
смысле «выше» натуры. И даже там, где композиции приближаются к жанру, - и
там мы ощущаем персонажи их неким игралищем «в руках» одинаково могучей и
красочной природы, певцом которой был дивный живописный дар Лермонтова!
И все же упоение от истинного таланта не должно застилать глаза на
огрехи, в данном случае обусловленные его достоинствами. Под ними я понимаю
преимущества глубокого миросозерцания поэта, которое, увы, не всегда
помогало ему проникать в конструкцию форм, способную быть раскрытой и в
цвете. В живописи Лермонтов подобен был гениально одаренному музыканту,
который, создавая свою нотную грамоту, смело берется писать грандиозные
оперы, впрочем, вполне посильные в случае получения всех необходимых для
того знаний и опыта. В то же время, не зная «катехизиса живописца»,
Лермонтов ясно ощущал внутреннее единство форм при их внешней разности.
И все же, обращая внимание на недостаточное знакомство Лермонтова-
художника с некоторыми принципами изобразительного искусства, следует
принимать во внимание, что многие из них были свойственны и куда более
опытным мастерам его времени /о чем, имея ввиду рисунок, речь уже шла/. И
русские и европейские живописцы - даже и самые выдающиеся – совершали
сходные ошибки, конечно же, извинительные для них куда в меньшей степени,
чем для Лермонтова. И если я упоминаю его просчеты, то потому только, что
талант Лермонтова не нуждается в поблажках, допустимых в отношении
посредственностей. Добавлю еще, что добрая «половина» огрехов художников
принадлежит их эпохе. Потому, с пользой для дела, отвлечемся на «просчеты
времени» и вневременные ошибки мастеров.
Театрально-романтическая приподнятость искусства второй четверти Х1Х
века, сменившая предшествующую героику опереточного классицизма, - во всем
старалась соответствовать реквизитам французских революций. Как классицизм
не очень уверенно играл роль возрождения древней классики, так и
революционный романтизм, не в состоянии исследовать форму, отдавал
предпочтение ее поверхности. И если роль форм играли одетые человеческие
фигуры, то «занавешены» они были так, что конструкцию объемов, растущих
изнутри, разглядеть было почти невозможно. Не лучше обстояли дела, когда
мифологические персонажи лихо освобождались от теснивших их римских туник.
Тогда даже и самые знаменитые из живописцев попадали впросак, впрочем,
никем, как правило, не замечаемый, ибо никакая эпоха не в состоянии видеть
самую себя со стороны. Потому в одном из самых известных своих живописных
полотен «Сидящий юноша», Энгр «гнет» /чтобы не сказать - жестоко ломает!/
бедному юноше поясницу там, где она попросту гнуться не может, ибо не
принадлежит подвижной части грудной клетки. Таких огрехов, не объяснимых ни
«идеей», ни живописной, ни какой-либо другой задачей, можно найти во
множестве не только среди мастеров классики и романтики, или предшествующих
им эпохам Рококо и Барокко, но и, страшно вымолвить, - среди титанов
Ренессанса, давших образцы высочайшего понимания строения форм.
К примеру, великий Микеланджелло совершал труднообъяснимые и
непростительные для него «грехи» нарушения конструкции и формы /среди
которых укажу лишь на пальцы «растущие» из поверхности кисти а потому не
предполагающие ее толщину у его «Давида» - недостаток, наряду с подобными
ему, заметный и в ряде более поздних работ мастера/. Причем речь не идет о
том, что великий мастер не редко сознательно изменял пропорции человека и,
с пользой для дела, одним из первых начал «придумывать» мышцы. Некоторые
огрехи, не обусловленные пластическими особенностями или «задумками»
художников, можно найти и у самого искренного, истинного романтика всех
времен Сандро Ботичелли /как правило, «ломавшего» формы так, что они от
этого только выигрывали/, не меньшего «фантазера» - Эль Греко и целого ряда
других гениев, которые, однако, потому и великие, что заявляли своим
творчеством не об одних лишь ошибках.
Одним словом - о художнике нужно судить не по промахам, а по удачам;
не по тому, чем он не владеет, а по тому, что умеет делать - по
достоинствам его. Таким должно быть отношение и к невольным прегрешениям
Лермонтова-художника. Мне могут возразить, что размах сравнений слишком
широк, да и очень уж лестен для поэта, рисовавшего в свое удовольствие. Но
это не совсем так, точнее – совсем не так. В сфере творчества забав для
гениев не бывает, а уж об удовольствии и говорить не приходится, что
доходчиво поясняет выражение - «муки творчества». Потому, все, что
привлекает внимание Сущности или увлекает ее воображение - есть проявление
творящего начала, свойственного истинно избранным. Забавлялись же
«олимпийцы» во все времена так же, как и простые смертные - верховой ездой,
веселым застольем, прогулкой в горах, на воде и т. д.
Что касается попыток выяснить мерила истинного таланта и «мерки»
внутреннего устроения лучших из них, то они тщетны, ибо все это есть тайна
за семью печатями. Ясно одно: завсегда бывшие вольными странниками, пророки
и поэты не покупали земную славу у неверных «оценщиков» ее - неизменно
корыстных, часто невежественных и всегда неблагодарных. Ясно и то, что
истинное величие недоступно рассмотривающим его в упор. В противном случае
легко стать смешным, как А. Эфрос, или потерять остроту зрения, как Н.
Пахомов.
Так, отдавая предпочтение профилям Пушкина и явно любуясь своим,
Эфрос, не догадываясь о девственности своих познаний в искусстве, научает
нас: «Усердный дилетантизм живописца Лермонтова столь же самоудовлетворен,
как педантичное линевание рисовальщика Жуковского»... Далее, линчуя неумех,
«гвардии»-критик отводит душу на Лермонтове: «Он очень старался, он
выписывал листочки на деревьях, пуговицы на мундирах, он лощил картины, как
заправский эпигон академической школы, но его трагическая Муза должна была
/хочется Эфросу/ в эти часы тяжело смыкать веки, чтобы не видеть, что делал
у ее ног маленький армейский поручик Лермонтов».2
Увы, метафоры литературных менял, подобные этой, годны лишь для
скупщиков земного успеха, что и явил насмешник наш, отказавший в даровании
«академику» Лермонтову. Эфрос, взамен таланта наделенный острым нюхом
времени, лихо оседлав «красного Пегаса», - умел храбро гарцевать и перед
авангардом, и перед Скалозубами своей эпохи. Но и Пахомов, считая, что
«порой Лермонтов-художник опережал Лермонтова-писателя»,3 пусть из благих
намерений, но оказывал поэту медвежью услугу. Ибо рисунки Лермонтова равны
его поэзии в немногих, увы, «маленьких шедеврах». И потом - уравнивать в
Лермонтове поэта и художника, значит считать его искусство сродни
выдающимся мировым гениям, что, мягко говоря, является натяжкой...
Итак, художественный материал и техника исполнения, как мы то, смею
надеяться, выяснили, - является лишь изобразительным средством для
выражения таинственного причастия великой души невидимому, а для известного
большинства еще и неведомому, миру... Говоря о форме самовыражения, можно
сказать, что одаренный человек - чего бы ни касался и каким материалом ни
пользовался - всегда заявляет о своих доминирующих качествах. Потому
«письма» и дневники Ван-Гога тем ценны, а то и являют образцы
художественной прозы, что, полные красочных оттенков внутренней жизни, -
словами обозначают «материи» выходящие за пределы, собственно, «слов».
Потому, не являясь «профессиональной литературой» и никаким боком не
касаясь ее, - они прямо относятся к художественному слову! И наоборот: иные
произведения как поденных, так и трудолюбивых литераторов, за отсутствием
всякой жизни в слабеньких и блеклых «по цвету» сочинениях, не имеют
отношения к литературе. Ибо творчество всегда есть явление сокровенной
души, которой есть что сказать, - души достойной творчества! Поэтому,
выразив себя «однажды», дух самовыражения, не ограничиваясь одной только
найденной уже формой, - переносит свое своеобразие и творящую волю на все,
чего бы ни касался. Тем более это относится к выдающимся личностям. Оттого,
вышнее - посредством таланта - прикосновение к струнам творчества
заставляет всякий инструмент сообщать нам о вещах значительных! Воля
развитого духа неизменно определяет и выбор художественных средств для
выражения идей. Будучи «суммой» или «комбинацией» всех указанных знаний -
они являются смыслом истинного творчества, которое «само» находит себе
художественную форму, протяженность по времени и время в истории.
Оттого, отвечая неведомым нам «импульсам» сознания и всегда
тождественная его значимости, «скорая» реакция души иной раз свободнее
раскрывает потенции таланта, ибо, заявляя о себе спонтанно, - не отягощена
премудростями техники. Потому одаренные натуры даже и не в своем амплуа
способны выразить захватившую их идею сильными художественными средствами,
порой создавая новые формы творчества, «попадая» /а то и предваряя/ в
творческие находки будущего. В случае с Лермонтовым невыразимой словом
ипостасью стало изобразительное искусство, ибо, к счастью для культурного
человечества, - гений Лермонтова не ограничился одной лишь поэтической
формой. А то, что жизнь поэта вместилась в исторически краткое мгновение,
лишь понуждает нас помнить предзнание Лермонтова о том, что истинное
Отечество его было не здесь...
_____
1 В течении ряда лет преподавая рисунок и скульптуру в Seattle
Academy of Fine Art /Академия Изящных искусств Сиэттла/, мне иногда
приходилось встречать поразительные творческие и пластические находки
учеников самого разного возраста. Причем, не редко, у тех из них, кто менее
всего готов был к какому-либо творчеству. Не беря на себя смелость
соглашаться с объяснениями, сводящими этот феномен к умению, высвободив и
раскрепостив дремлющие способности, обратить внимание к сути искусства,
полагаю, все дело в предрасположенности к творческому само-раскрытию. В
этом случае восприятие ученика, не привязанное ни к опыту, ни к техническим
навыкам или конкретным знаниям, воспроизводит образы порой имеющие
художественную ценность.
К примеру, одна дама, лепя портрет «белой» натурщицы, вряд ли
осознанно, в течении дней создавала образ негритянки. Наблюдая, но не
вмешиваясь в процесс, в конце его я внес минимальные уточнения формы, в
результате чего получилась вещь достойная бронзы! Нечто подобное явил юноша
из Норвегии. Рисуя сидящего старика и при этом не справляясь ни с
конструкцией, ни с формой, ни с движением, ни с характером модели, он, на
протяжении часов не уклоняясь от острого и фантастически экспрессивного
образа, - создал сильную графическую вещь! Некоторые уточнения /сознаюсь/
сделанные мной для выявления характера и остроты его находок, были
незначительны.
2 Эфрос А. Рисунки поэта. 2-е издание. М. 1933. С. 14-15.
3 Пахомов Н. Живописное наследство Лермонтова. М.1948. С. 58.
Март-Апрель 2004.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|