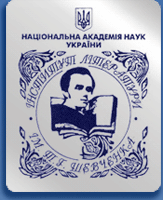Тиберий Клавдий 
p align="left">Триумфы, между прочим, были проклятием Рима. Сколько развязывалось ненужных воин только потому, что полководцам хотелось, надев лавровый венец, со славой проехаться по улицам города с закованными в цепи пленными, идущими позади колесницы, и военной добычей, горой нагруженной на карнавальные повозки. Август это понимал; по совету Агриппы он издал указ, согласно которому триумф предоставлялся только тому военачальнику, кто был членом императорской фамилии. Этот указ, выпущенный в год моего рождения, мог навести на мысль, будто Август завидовал своим полководцам, потому что к тому времени сам он перестал участвовать в активных военных действиях, а члены его семьи были еще малы, чтобы получать триумфы, но значил он совсем иное. Август не хотел больше расширять границ империи и рассчитывал, что военачальники не станут вызывать пограничные племена на столкновения, если победа над ними не принесет им в награду триумфа. Однако он разрешил "триумфальные украшения": вышитая тога, статуя, венок и так далее - для тех, кому раньше назначили бы триумф: это должно было быть достаточным стимулом для хорошего военачальника, который ведет нужную Риму войну. Кроме всего прочего, триумфы плохо влияют на дисциплину. Солдаты напиваются, выходят из повиновения и обычно кончают день тем, что громят винные лавки, поджигают те, где продается масло, оскорбляют женщин и вообще ведут себя так, словно завоевали не какой-то там лагерь с деревянными домишками в Германии или занесенную песком деревню в Марокко, а сам Рим. После триумфа, отпразднованного моим племянником, о котором я вам вскоре расскажу, четыреста солдат и почти четыре тысячи частных граждан тем или иным путем расстались с жизнью, сгорело дотла пять больших кварталов жилых домов в районе проституток, было разграблено триста винных лавок, не говоря уже о прочих огромных убытках.Но вернемся к Катону Цензору. Его руководство по ведению хозяйства и домашней экономии было дано мне для упражнений в правописании, и всякий раз, что я ошибался, я получал две затрещины: одну, по левому уху, за глупость, вторую, по правому - за оскорбление благородного Катона. Я помню один абзац в этой книге, который прекрасно иллюстрировал этого низкого, скаредного и злобного человека: "Хозяин должен... продать состарившихся волов, порченую скотину, порченых овец, шерсть, шкуры, старую телегу, железный лом, дряхлого раба, болезненного раба, продать вообще все лишнее"[3]. Что касается меня, то, когда я жил и хозяйничал в своем небольшом поместье в Калуе, я следил за тем, чтобы старых животных использовали на легкой работе, а затем просто держали на пастбище, пока возраст не делался для них обузой, тогда я велел убивать их ударом по голове. Я не ронял свое достоинство, продавая их за безделицу крестьянину, который непосильной работой довел бы их до последнего издыхания. С рабами я всегда обращался великодушно, как с больными, так и со здоровыми, как с молодыми, так и со старыми, и ожидал от них, в свою очередь, глубокой преданности. Я редко бывал обманут в своих ожиданиях, хотя когда они злоупотребляли моим великодушием, я безжалостно наказывал их. Я не сомневаюсь, что рабы старого Катона все время болели, надеясь, не продаст ли он их более гуманному хозяину, и думаю также, что вряд ли он добивался от них такой честной работы и услужения, каких добиваюсь я. Глупо обращаться с рабами, как со скотом. Они куда понятливее, к тому же способны своей преднамеренной небрежностью и упрямством за одну неделю причинить больший урон вашему имуществу, чем заплаченная за них цена. Катон хвастал, что никогда не тратил на раба много денег, ему годился любой злобный урод, лишь бы у него были крепкие мускулы и крепкие зубы. Убейте меня, не понимаю, как он умудрялся находить на них покупателей, когда выкачивал из них все силы. Судя по тому, что я знаю о его потомке - говорят, как две капли воды похожем на него по характеру и по внешности (рыжеволосый, зеленоглазый, громкоголосый и грузный), - я полагаю, что он угрозами заставлял своих бедных соседей покупать у него отслуживших свое рабов по цене молодых. Мой дорогой друг Постум, двумя годами меня старше, - самый верный друг, какой у меня был после Германика, - прочитал в одной старой книге, что Катон Цензор был не только скупердяй, но и мошенник: он оказался замешан в каких-то грязных махинациях при торговле судами, но избежал публичного позора, объявив одного из своих бывших рабов номинальным владельцем. В качестве цензора, то есть человека, блюдущего общественную нравственность, он делал довольно странные вещи, якобы во имя общественной благопристойности, но в действительности, похоже, для того, чтобы насолить своим личным врагам. По его собственным словам, он исключил одного человека из сословия сенаторов потому, что тому "недостает римской чинности", - он поцеловал свою жену днем, да еще в присутствии дочери! Когда друг исключенного, тоже сенатор, обвинил Катона в несправедливости и спросил, неужели тот никогда не обнимает свою жену, кроме как на супружеском ложе, Катон горячо ответил: - Никогда! - Неужели никогда? - Ну, откровенно говоря, года два назад жена бросилась мне на шею, испугавшись грозы, но, к счастью, этого никто не видел, и, уверяю тебя, она не скоро это повторит. - О, - сказал сенатор, делая вид, будто неправильно понял Катона, который скорее всего хотел сказать, что прочитал жене суровую нотацию за недостаток чинности. - Я тебе сочувствую. Некоторые женщины не очень ласковы с некрасивыми мужьями, как бы те ни были справедливы и добродетельны. Но не отчаивайся - возможно, Юпитер пожалеет тебя и снова нашлет грозу. Катон не простил этого обидчику, бывшему, кстати, его дальним родственником. Год спустя он проверял списки сенаторов, что входило в его обязанности цензора, и спрашивал каждого из них по очереди, женат ли тот. Тогда существовал ныне отмененный закон, согласно которому сенаторы должны были состоять в законном браке. Подошла очередь его родственника, и Катон задал ему вопрос по обычной формуле: "Есть ли у тебя жена? Отвечай по чести и в знак доверия", - на что следовало ответить: "Да (или нет), по чести и в знак доверия". Услышав этот вопрос, произнесенный скрипучим голосом, сенатор немного смутился, - он попал в глупое положение, так как, пошутив насчет жены Катона, он вскоре узнал, что сочувствовать надо не Катону, а ему самому, и был вынужден развестись. Поэтому, чтобы, не уронив собственного достоинства, обратить шутку против себя самого, сенатор ответил: "Да, у меня действительно есть жена, но она вышла из моего доверия, а за честь ее я и гроша ломаного не дам". После чего Катон исключил его из сословия сенаторов за непочтительность. А кто навлек на Рим Проклятие? Этот же самый Катон, который, когда в сенате спрашивали его мнение по любому вопросу, заканчивал свою речь следующими словами: "Так я считаю, и считаю также, что Карфаген должен быть разрушен, он является угрозой Риму". Твердя без конца одно и то же об угрозе, которую представляет собой Карфаген, Катон вселил в умы римлян такую тревогу, что, как я уже говорил, они нарушили свое торжественное обещание и стерли Карфаген с лица земли. Я написал о Катоне Цензоре больше, чем намеревался, но это не случайно: в моей памяти он связан и с гибелью Рима, в которой он повинен не менее, чем те люди, чья "недостойная мужчин роскошь, - как он говорил, - подрывает силы государства", и с моим несчастливым детством под ферулой этого погонщика мулов, его прапраправнука. Я старый человек, и мой наставник уже пятьдесят лет как умер, но когда я думаю о нем, сердце мое по-прежнему преисполняется ненависти и гнева. Германик защищал меня перед старшими уговорами и убеждениями, а Постум сражался за меня, как лев. Казалось, ему все нипочем. Он даже осмеливался высказывать свое собственное мнение в лицо самой бабке. Постум был любимцем Августа, поэтому какое-то время Ливия делала вид, будто ее забавляет его, как она называла это, детская импульсивность. Сперва Постум, сам не способный к обману, ей доверял. Однажды, когда мне было лет двенадцать, а ему четырнадцать, он случайно проходил мимо комнаты, где Катон занимался со мной. Постум услышал звуки ударов и мои мольбы о пощаде и, разъяренный, влетел внутрь. - Не смей его трогать! - вскричал он. Катон взглянул на него с презрительным удивлением и так меня ударил, что я свалился со скамейки. Постум проговорил: - Тот, кто боится бить осла, бьет седло (в Риме была такая поговорка). - Наглец, что ты этим хочешь сказать?! - заорал Катон. - Я хочу сказать, - ответил ему Постум, - что ты вымещаешь на Клавдии свое зло на людей, которые, как ты думаешь, сговорились помешать твоему возвышению. Ты слишком хорош, чтобы быть его учителем, да? Постум был умен, он догадался, что эти слова так разозлят Катона, что он потеряет над собой власть. И Катон попался на удочку. Нанизывая одно на другое старомодные ругательства, он закричал, что во времена его предка, чью память оскорбляет этот проклятый заика, горе было бы тому ребенку, кто проявлял недостаточное почтение к старшим: в те времена дисциплину поддерживали крепкой рукой. А в наши развращенные дни первые люди Рима дают любому невежественному деревенскому придурку (это по адресу Постума) или слабоумному хромому молокососу разрешение... Постум прервал его с предостерегающей улыбкой: - Значит, я был прав. Развращенный Август оскорбил великого цензора, наняв тебя служить в этом развращенном семействе. Ты, верно, уже доложил почтенной Ливии о своих чувствах по этому поводу? Катон был готов откусить себе язык от досады и страха. Если Ливия узнает о том, что он сказал, ему не поздоровится; до сих пор он выражал глубочайшую благодарность за честь, которую ему оказали, доверив воспитывать ее внука, не говоря уже о том, что ему безвозмездно вернули фамильное поместье, конфискованное после битвы при Филиппах, где его отец погиб, сражаясь против Августа. Катон был достаточно благоразумен (или труслив), чтобы учесть намек, и после этого мои ежедневные мучения значительно ослабли. Через три или четыре месяца после того он, к моему восторгу, перестал быть моим наставником, так как его назначили директором Школы для мальчиков. Теперь Постум попал под его начало. Постум был необычайно силен. Когда ему еще не исполнилось четырнадцати, он мог согнуть на колене железную полосу толщиной с мой большой палец, и я видел, как он ходил по площадке для игр с двумя мальчиками на плечах, одним на спине и еще одним, стоящим у него на ладонях. Он не был прилежным учеником, но умом - говорю без всякого преувеличения - намного превосходил Катона, и в последние два года пребывания в Школе мальчики избрали его своим вожаком. Во всех школьных играх он был "царь" - странно, что слово "царь" надолго уцелело у мальчиков, - и строго следил за порядком среди своих товарищей. Катону приходилось быть любезным с Постумом, если он хотел, чтобы остальные ученики поступали по его желанию, потому что все они слушались Постума с полуслова. Катону было приказано Ливией представлять ей каждые полгода отчеты об учениках; она сказала, что если они покажутся ей интересными для Августа, она передаст их ему. Из этого Катон вывел заключение, что отчеты эти должны быть нейтральными, за исключением тех случаев, когда Ливия намекнет, чтобы он похвалил или осудил кого-нибудь из мальчиков. Многие браки устраивались, когда юные патриции были еще в Школе, и отчеты Катона могли пригодиться Ливии в качестве аргумента за или против предполагаемого союза. Браки среди римской знати должны были быть одобрены Августом как великим понтификом и большей частью диктовались Ливией. Однажды Ливия неожиданно зашла в Школу и увидела в галерее, как Постум, сидя на стуле, изображает "царя". Катон заметил, что она нахмурилась, и это придало ему смелости написать в очередном отчете: "Хотя и с большим нежеланием, я вынужден во имя добродетели и справедливости сообщить, что мальчик Агриппа Постум отличается жестоким, властным и упрямым нравом". После этого Ливия держалась с Катоном так милостиво, что следующий его отчет был написан в еще более сильных выражениях. Ливия не показала эти отчеты Августу, но отложила их на всякий случай, сам же Постум ничего об этом не знал. В "царствование" Постума я провел два счастливейших года моей юности, могу даже сказать: моей жизни. Он приказал другим мальчикам, чтобы меня брали в игры в галереях, хотя я и не был учеником Школы, и сказал, что будет рассматривать всякую нанесенную мне обиду и причиненное мне зло так, словно их причинили ему самому. Поэтому я принимал участие во всех гимнастических упражнениях, которые позволяло мне здоровье, и только когда в школу заглядывали Август или Ливия, я старался уйти в тень. Теперь вместо Катона моим наставником был добрый старый Афинодор. За шесть месяцев я узнал от него больше, чем от Катона за шесть лет. Афинодор никогда не бил меня и относился ко мне с величайшим терпением. Он подбадривал меня, говоря, что хромота должна подстегивать мой ум. Вулкан, бог ремесленников, тоже был хромым. Что касается заикания, то Демосфен, самый великий оратор всех времен, был заикой с рождения, но излечился от этого благодаря терпению и настойчивости. Демосфен применял тот же самый способ, которым Афинодор учил сейчас меня: он заставлял меня декламировать, набрав в рот мелкие камушки. Стараясь справиться с мешавшими мне камнями, я забывал о заикании, камни один за другим постепенно вынимались изо рта, и, когда исчезал последний, я вдруг с удивлением обнаруживал, что могу произносить слова не хуже других людей. Но только когда декламирую. При обычном разговоре я по-прежнему сильно заикался. То, что я так хорошо декламирую, Афинодор держал от всех в тайне. - Настанет день, мартышечка, и мы удивим Августа, - частенько говорил он мне. - Подожди еще немного. Он звал меня "мартышечха" в знак любви, а не презрения, и я гордился этим прозвищем. Когда Афинодор бывал мной недоволен, он, чтобы меня пристыдить, произносил громко и отчетливо: - Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, помни, кто ты и думай, что ты делаешь. С такими друзьями, как Постум, Афинодор и Германик у меня мало-помалу появилась какая-то уверенность в себе. Афинодор сказал на самом первом нашем занятии, что будет учить меня не фактам, ведь факты я и сам могу узнать, где угодно, а умению правильно их изложить. 2 г. н.э. Однажды, например, он ласково спросил меня, почему я так возбужден: я был не в состоянии сосредоточиться на том, что мне было задано. Я сказал ему, что только что видел множество рекрутов, которым Август делал смотр на Марсовом поле, перед тем как отправить их в Германию, где недавно снова разразилась война. - Ну что ж, - сказал Афинодор тем же ласковым голосом, - если ты не можешь думать ни о чем другом и слеп сейчас к красотам гесиодовского слога, Гесиод может подождать до завтра. В конце концов, он ждал семьсот лет с лишком, так что он не будет в обиде, если мы отложим его еще на день. А пока давай сделаем вот что: садись, возьми свою дощечку и напиши мне письмо, опиши коротко все, что ты видел на Марсовом поле, как будто я уже пять лет как уехал из Рима, и ты шлешь мне морем весточку, скажем, на мой родной Тарс. Это даст занятие твоим рукам, которым ты не можешь найти места, и будет к тому же хорошей практикой. Я с радостью стал царапать стилом по воску, а затем мы прочитали письмо с начала до конца, выискивая ошибки в правописании и композиции. Я был вынужден признать, что написал об одном слишком много, о другом слишком мало и поместил факты в неверном порядке. Абзац, где описывался плач невест и матерей и то, как толпа кинулась к мосту, чтобы в последний раз прокричать "ура" вслед уходящей колонне, должен был завершить письмо, а не начинать его. И ни к чему было упоминать, что кавалерия была на лошадях, это и так понятно. И я дважды написал, что боевой конь Августа споткнулся, одного раза достаточно, если он споткнулся один раз. А то, что Постум рассказал мне, когда мы возвращались домой, о религиозных обычаях евреев, интересно, но не имеет отношения к делу, потому что рекруты - италийцы, а не евреи. К тому же на Тарсе у моего адресата, вероятно, больше возможности изучать обычаи евреев, чем у Постума в Риме. С другой стороны, я не упомянул о некоторых вещах, о которых ему было бы интересно узнать: сколько рекрутов было на плацу, хорошо ли они обучены, в какой гарнизон их отправляли, грустный или веселый у них был вид, что сказал им Август в своей речи. Три дня спустя Афинодор велел мне описать ccopу между моряком и старьевщиком, которую мы с ним наблюдали в тот день. проходя через рынок, и я сделал это с большим успехом. Сперва он обучал меня правильно излагать мысли, когда я писал сочинения, затем - когда говорил на заданную тему, и наконец - когда просто беседовал с ним. Афинодор не жалел на меня труда, постепенно я сделался более собранным, потому что он не пропускал без замечания ни одной моей небрежной, неуместной и неточной фразы.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
|
|